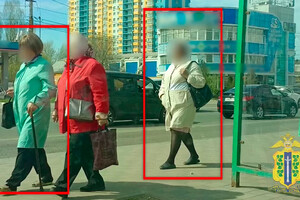И был очаг, и в очаге был огонь, и огонь и очаг не были нарисованными.
При словах «нарисованный очаг» мы сразу вспомним сказку Алексея Толстого «Золотой ключик». Прекрасная сказка, которая потом ушла в карамель, шоколадные конфеты и названия детских садов. Но когда сказка только была опубликована, кому-то она не показалась детской: некоторые сразу узнали прототипов. А те, кто не узнал, тому на ушко и рассказали.
Фаина Раневская писала: «Я сама бы не догадалась, но мне объяснили в театре. Главный герой, Буратино, – это Горький, Мальвина – жена Блока, Любовь Менделеева, а сам Блок выведен как Пьеро. В сказке есть злодей Карабас-Барабас, директор кукольного театра, так вот это – Мейерхольд».
«Доктор кукольных наук», – так представляется в сказке Карабас-Барабас. «Доктор Дапертутто», – так подписывался в журнале о театре, литературе и искусстве «Любовь к трем апельсинам» под своими статьями в 1914-1916 годах главный редактор журнала Мейерхольд.
Дапертутто – это зловещий персонаж из одной сказки Гофмана, который подозрительно прихрамывает на одну ногу, а из всех нарядов предпочитает короткий красный плащ и алые перья (ну просто наш Филипп Киркоров).
Псевдоним неслучаен. Мефистофель, искуситель, доктор Зло. Многие театралы считали Мейерхольда режиссером-деспотом, для которого актеры – это только марионетки.
У Карабаса-Барабаса с Мейерхольдом совпадают даже некоторые привычки и детали в облике. Длинная борода Карабаса-Барабаса и длинный шарф с концами до самой земли, который любил носить Мейерхольд. (...Читаешь про всю эту фатоватую внешность и не можешь избавиться от читанного про уже позднюю судьбу Мейерхольда: «…Меня здесь били – больного шестидесятишестилетнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам […] боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток» (из письма арестованного Мейерхольда Молотову).
Или та же знаменитая плетка Карабаса-Барабаса (вернемся снова в сказочные дни). Оказывается, Мейерхольд всегда носил с собой пистолет-маузер, а на репетициях зачем-то выкладывал его перед собой на стол.
Но кто же тогда там папа Карло?
Чайка, чайка, я чайка.
Ну конечно. Папа Карло – это Константин Станиславский.
Он и откроет заветным золотым ключиком дверь на лестницу, пройдя которую, они с куклами вдруг увидят комнату, где стоит чудесный кукольный театр.
Но оставим теперь их там. Пусть глазеют, пищат тоненькими голосами, пусть радуются. У нас есть свой чудесный кукольный театр, свой вертеп. И сегодня Блок, наш Пьеро, протягивающий из своего балаганчика длинные руки с еще более длинными белыми рукавами, скажет, через все метели и все страшное и нестрашное время, о надмирном и радостном:
«Был на свете самый чистый и светлый праздник. Он был воспоминанием о золотом веке, высшей точкой того чувства, которое теперь уже на исходе, – чувства домашнего очага. Праздник Рождества Христова был светел в русских семьях, как елочные свечки, и чист, как смола. На первом плане было большое зеленое дерево и веселые дети; даже взрослые, не умудренные весельем, меньше скучали, ютясь около стен. И все плясало – и дети, и догорающие огоньки свечек».
Это будет единственное, что скажет Блок в своем эссе хорошего. Дальше начнется ужас-ужас. Но мы не пустим этот ужас к себе. Нам и своего ужаса хватает.
В конце концов, у Рождества есть простой основной механизм: все в нем должны помириться. И стать пусть ненадолго немного другими.
И тут у меня есть дикая, лесная, колючая мысль. Я знаю, почему именно в Рождество мы должны помириться. Ну кроме той причины, что младенец Иисус родился и значит, началось новое бытие, новый отсчет. Нет, я сейчас хочу говорить о другом. Тоже о сакраментальном, но сакраментально-мелком, как бывает сакраментальна маленькая фея или сакраментален гном.
Иван Шмелев писал о том, как преображался город в дореволюционное Рождество: «Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, – лес елок. (...) На Театральной площади, бывало, – лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, – потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках – будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. (...) До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает. Небо – в дыму – лиловое (...). На елках иней. Мерзлая ворона попадется, наступишь – хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а… тепло!..»
А я подумал... У нас же елки на Новый год покупают, не на Рождество, у нас 7 января елка уже пообтерхается, пооблетит, постарела красавица, одну-две игрушки уронит с ослабевших лап, еле-еле доплетется, не двигаясь, до Старого Нового года. А там уже и на свалку.
Поэтому наше Рождество – это не их, дореволюционное, не хрустящее и не новое, не с иголочки. Оно у нас уже опытное, советское, мудрое, зрелое. Оно про то, что елки скоро будут уже выносить. Про то, что нас тоже будут когда-нибудь выносить. И вот именно тут, сейчас, именно в это время, когда мы не новенькие сами, не только что из хрустящей бумаги, да и одна лампочка или целая гирлянда уже перегорела, мы и должны все возрадоваться, принять новый смысл, новое рождение, доказанное Рождество.
Именно поэтому в этот момент мы и должны все помириться.
Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган.
Лицо дневное Арлекина
Еще бледней, чем лик Пьеро.
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, сшитые пестро...
Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!
В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.
Ну что ж. Поплачем, запоем, пойдем. Не спрашивая, почему ваши песни заморские, Александр Александрович, не спрашивая, куда делся Буратино из списка всех перечисленных (ответ: он еще не родился): просто поплачем, запоем и пойдем.
Впереди нас ждут новые дни, потайная, завешанная старым холстом с нарисованным на нем красивым очагом, огнем и котелком дверь – и что-то еще за дверью. Нет, не спуск по витой лестнице, не новый театр (зачем он нам?), а что-то новое и ослепительное.
Мы все сможем, мы все победим, мы всех отпоем. Вставай, старый Карло, вставай, деревянный луковый Буратино, вставай, невинно убиенный Мейерхольд, не плачь; вставай, победивший Станиславский, вставай, Мальвина. Уже пришло православное Рождество, оно тут, очень колючее, очень нежное, очень яркое. Вставайте все. У меня в руках золотой ключик, я нашел его, нет-нет, попробовать на зубок не дам.
Нам пора в путь.

 Цивилизация
Цивилизация