«Рождение» (1910)
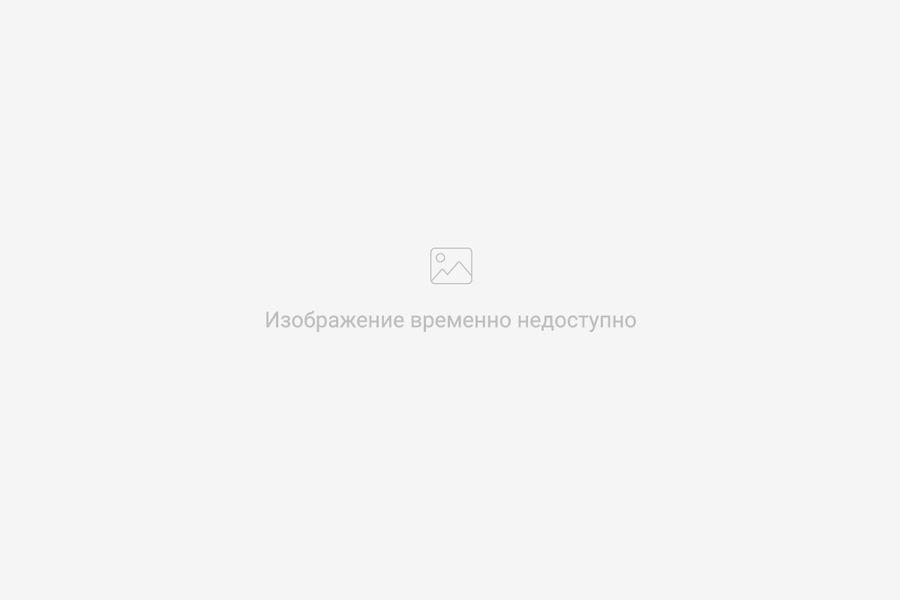
На протяжении всей жизни Марк Шагал бесконечно рисовал родной Витебск и свою семью, стремясь примирить божественное и земное, начала глубоко символические и грубо бытовые.
В 1910 году на свет появился младший брат художника, и ошеломленный этим событием Шагал написал «Рождение» — полотно, изображающее только что разрешившуюся от бремени женщину, над которой стоит повивальная бабка с новорожденным на руках, и столпившихся в правой части картины мужчин.
Это полотно стало одной из первых шагаловских вариаций сюжета о рождении Христа: «святое семейство», глава которого прячется под кроватью, приветствуют шумные родственники-волхвы, приносящие дары. Однако грязноватый, мрачный колорит картины напоминает скорее «Едоков картофеля» Ван Гога, чем традиционную религиозную живопись. Здесь же среди бородатых мужчин, входящих в дом, появляется корова — один из главных образов-символов, которые часто встречаются на шагаловских полотнах. Так, соединив религиозный сюжет с грубой реальностью, он создал предельно насыщенный аллюзиями земной мирок, в котором небо и земля слились воедино.
«Автопортрет с семью пальцами» (1913)
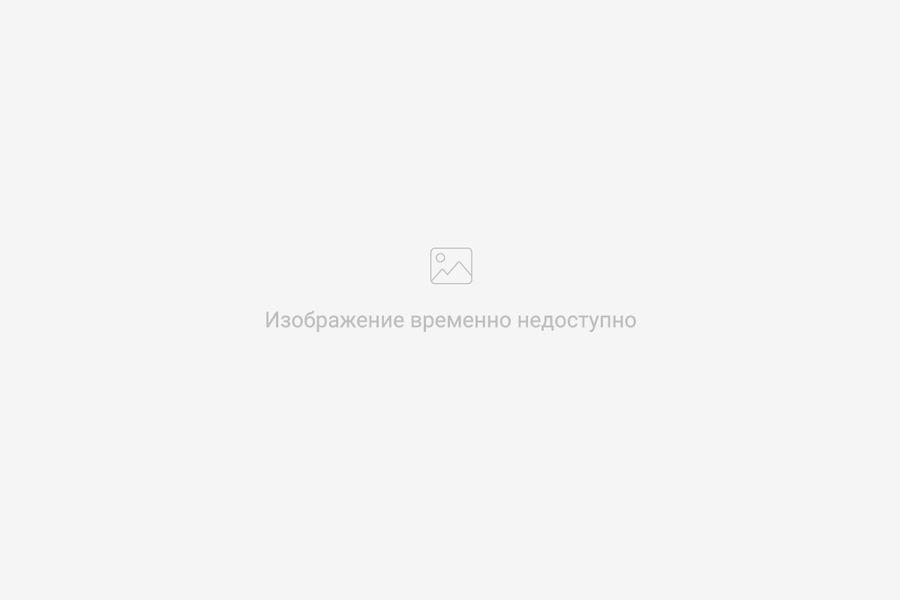
В 1913 году Шагал оказался в Париже, где готовился к выставке в Салоне Независимых (французском объединении художников, к которому в разное время примыкали Хуан Миро, Анри Матисс, Александра Экстер, Винсент ван Гог). На картине «Автопортрет с семью пальцами» он изобразил себя в образе чудаковатого творца, сидящего перед мольбертом: за его спиной через окно виднеется Париж и Эйфелева башня. Неподалеку от нее, как видение, возникает православная церквушка, а перед ним на мольберте — «Россия, ослы и другие», одна из лучших его картин, которую также показывали в Салоне.
Идиома «Семь пальцев» на идише обозначает «на все руки мастер», но чаще их соотносят с библейскими семью днями творения мира.
При этом кубистическую фигуру художника-демиурга Шагал сажает в довольно примитивно написанное пространство, вновь хаотично наслаивая стили и мотивы.
«День рождения» (1915)
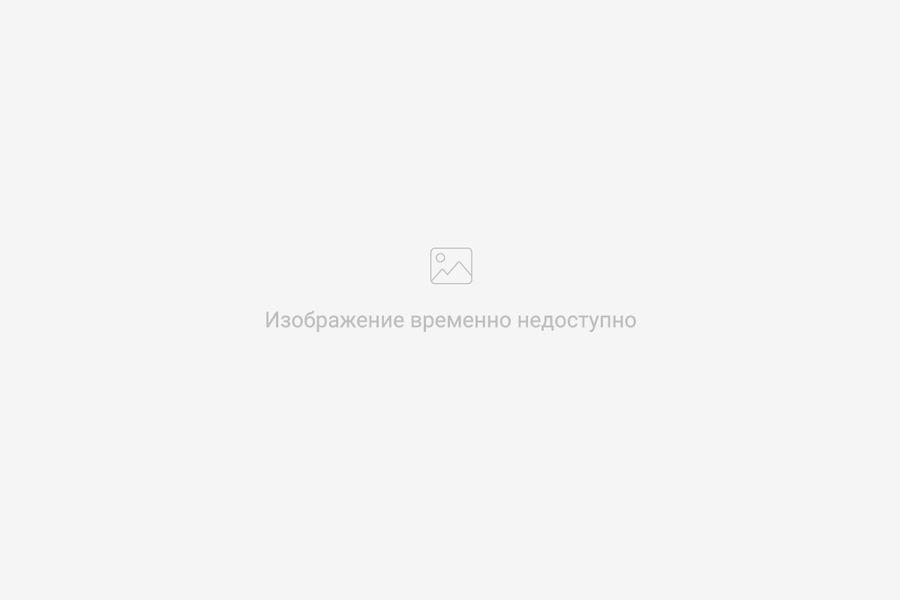
В 1914 году художник, к тому времени уже ставший гражданином Франции, вернулся в Витебск на свадьбу сестры, планируя провести дома всего несколько дней.
Но как только грянула Первая мировая война, границы закрылись, и Шагалу пришлось остаться в России.
В этот период он писал, что «Витебск — несчастный, скучный город». Однако здесь его встретила Белла (Берта Розенфельд), на которой Шагал женился в июле 1915 и любовь к которой пронес через всю жизнь, раз за разом рисуя ее во всех женских образах. На картине «День рождения» во всех подробностях изобразил комнату, в которой жил с Беллой, и оторвавшихся от земли влюбленных.
«Введение в еврейский театр» (1920)
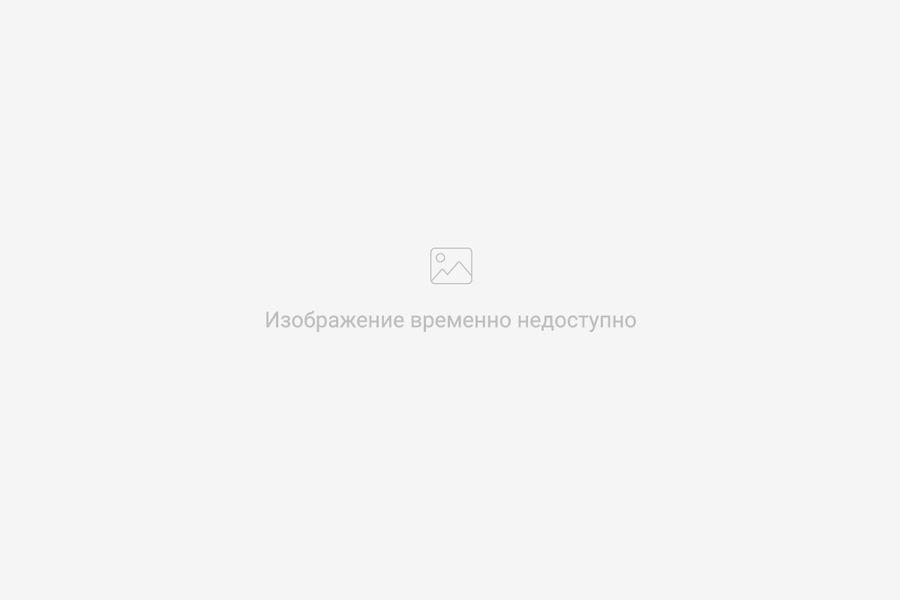
По возвращении из Европы в жизнь Шагала стремительно врывается театр. В 1916 году режиссер Николай Евреинов пригласил его оформить миниатюру «Совершенно веселая песня» в артистическом подвале «Привал комедиантов», а в 1920-м Алексей Грановский позвал его в Государственный еврейский камерный театр, в котором — не без участия Шагала — актуальные театральные идеи соединились с богатым еврейским колоритом.
В результате Шагал не только создал декорации и эскизы костюмов для нескольких постановок театра, но и оформил здание и зрительный зал.
На центральном панно «Введение в еврейский театр» можно обнаружить всю семью Шагала: самого художника, его жену Беллу и их маленькую дочь Иду, а также имена отца и матери, бабушки и дедушки, написанные на идиш, которые вращаются вокруг пестрого супрематического узора.
Вместе с реальными персонажами в пространстве картины парят клоуны и музыканты, олицетворяющие Музыку, Драму и Танец, коровы и ангелы.
Панно было расположено вдоль продольной стены зала и стало одной из самых грандиозных мистерий, созданных Шагалом.
«Падение ангела» (1923–1933–1943)
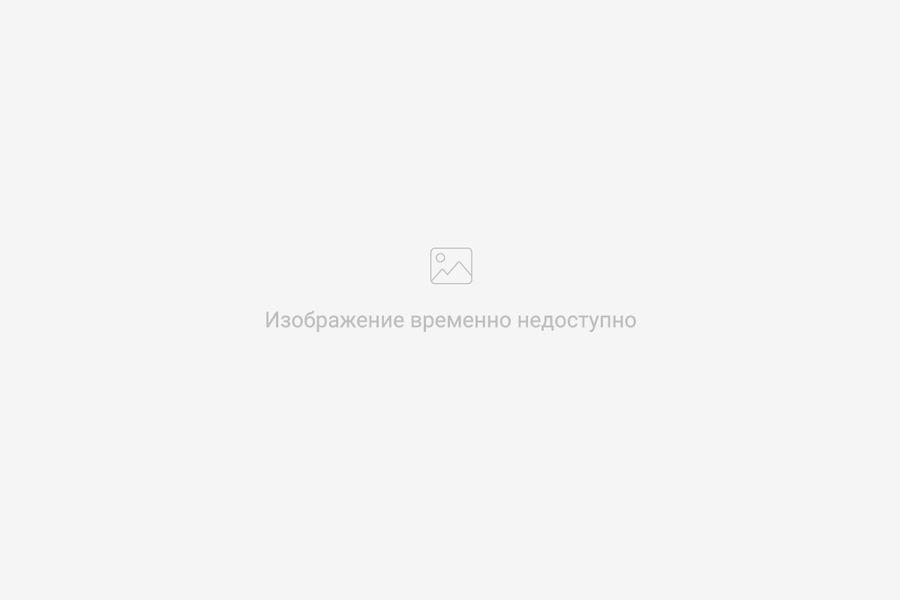
В 1922 году Шагал с семьей покинул Россию. В конце года он начал работать над картиной «Падение ангела», которую дописывал и исправлял вплоть до 1947 года. В центре картины — огненный ангел, падающий с небес.
Вокруг него смешались старик, указывающий на текст Торы, корова со скрипкой и поднятый в воздух путник.
Только в годы Второй мировой войны Шагал добавил к ним зимний Витебск, виднеющийся на фоне, распятие и Мадонну с младенцем. Апокалиптические мотивы, которые традиционно связывают с террором и насилием, последовавшими за русской революцией и возобновившимися в годы войны, как проказа, поражают небо и землю, но Шагал оставляет место надежде в образе матери с младенцем, горящей свечи, музыки.

 Цивилизация
Цивилизация






















