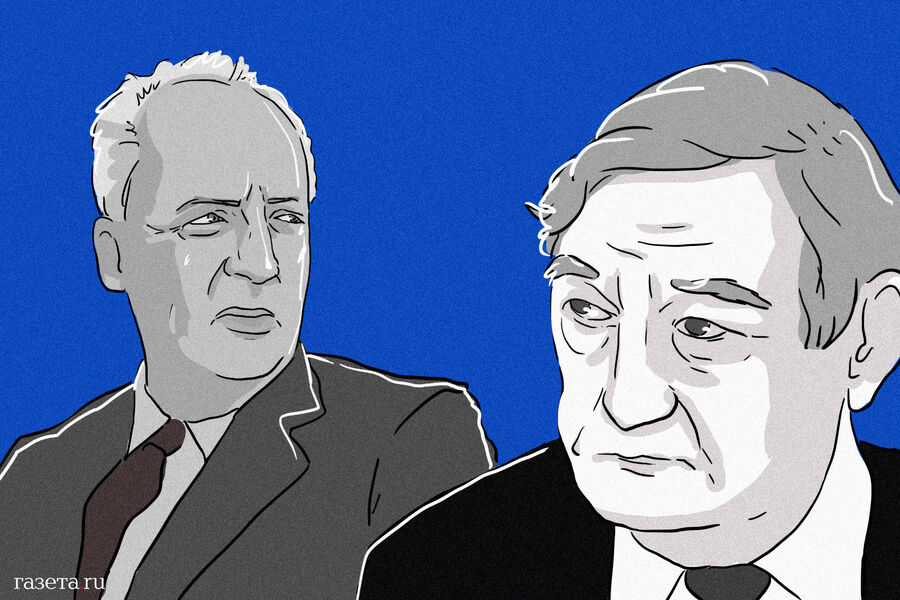У меня есть кулинария недалеко от дома. Там работают несколько женщин – одна из них не очень хорошо говорит по-русски, повариху я никогда не видел, а с третьей мы иногда коротко говорим «за жизнь».
Мне не очень нравится, как они там готовят супы: слишком густо.
Если это борщ, то на мясе чересчур много жира, а картошки и свеклы с капустой так много, что ложку можно поставить. Если куриный суп, то от толстой лапши, как в лапшовом аду, не продохнуть.
Однажды я пришел за едой, стою у застекленного прилавка, выбираю котлету, салат и картошку, деликатно уклоняясь от предложения супа, вдруг смотрю: женщина, с которой мы иногда говорим за «жизнь», несет какую-то небольшую кастрюлю – и там плещется жидкий прекрасный суп.
«Что это?» – спрашиваю. – «А, это для нас суп, это не на продажу, мы себе его тут готовим». – «Хочу».
Самое смешное, что с меня даже денег не взяли.
Так вот, этот суп – был лучшим. Без этой чрезмерной наваристости в стиле маньеризма, когда кажется, что в пяти литрах воды сварили несколько портретов Арчимбольдо; не «как у мамы» (где вы видели такую раблезианскую маму?), о которой их реклама на столбе с указателем предупреждает; а нормальный куриный суп: минимум средств, суп-эскапист, суп-конкретист, суп легкий, «суп-карандашный-набросок», с летучей, как осенние сны, вермишелью.
Меня тогда это рассмешило. «Своим», «чужим». Чужим – суп избыточного барокко, своим – рисовальщик Константин Андреевич Сомов. И то, что было «своим», оказалось бедней, но вкуснее.
...А вчера вообще с третьей теткой мы разговорились. О поездках.
«Ну за границу нам уже, как понятно, теперь не светит. Кончилась для нас заграница. Но зато Россия осталась: много мест, которых я еще не видел». (Да-да, поддакивала третья «сестрица».)
Кстати, Лев Гумилев, который родился по новому стилю 1 октября, выезжал за границу всего один раз. А уж к кулинарии имел самое непосредственное, хотя и эксцентричное отношение.
Например, он запрещал (в свободной жизни: в лагере, понятно, его об этом не спрашивали) варить ему суп с картофелем. Дескать, картошка очень осложнила жизнь и без того трудную русского крестьянства. Поэтому его жена, Наталья Викторовна, варила ему суп с репой.
Какая милая дурость.
Впрочем, отношение к картошке у Льва Николаевича было не единственной странностью. Например, он еще приходил на вокзал за час: а вдруг поезд раньше отправят?
Но вернемся к репе.
Я не знал, что, в отличие от Льва Гумилева, древние греки ее как раз не сильно жаловали. Свеклу уважали, а репу не очень. И когда в храмах в честь бога Аполлона свеклу несли в жертву на серебряном блюде, то репе приходилось довольствоваться оловянным.
...Вот есть же судьбы, которые даже страшно примерить на себя. Стеклянный, деревянный, оловянный. Все исключения.
И у Льва Гумилева она явна была деревянной. Не билась, не плавилась, лежала под тобой доской вагона (который, может, и задержали или отправили раньше, это уже не имело значения), откуда ты видел, как уплывает на долгие годы с какого-то запасного пути Ленинград, в который ты вернешься уже совсем другим. Потом она же, судьба, лежала под тобой лагерными норильскими нарами.
Да он и сам был какой-то деревянный – негнущийся. Ни расколотить его было нельзя, ни расплавить.
Взял доску-мысль, хрясь по собеседнику. «Ненавижу декабристов», – например, говорил. Сквозь зубы. «Все они масоны».
Они раскачали российский трон, а значит, империю. А империю никому раскачивать нельзя. (Он был патриот и убежденный монархист.)
А еще не доверял врачам. Где-то прочитал, что Гумилев говорил, что у Сталина было одно дело правильное – «дело врачей».
И сильно недолюбливал Набокова.
Даже не так. Не недолюбливал, а презирал.
«На противном берегу». На каком это противном берегу? По-русски надо говорить «на противоположном». Ну или «на другом». Благо, что целая вещь есть у Набокова – «Другие берега». Какой еще противный берег? А есть «приятный»?
И за эмиграцию Набокова тоже упрекал. Хотя разве можно было того упрекать в бегстве?
Его собеседница пытается защитить писателя: «Ну так он ведь почти мальчик был».
Гумилев (с гневом): «19 лет – это не мальчик. Он уже мог воевать, как воевали и гибли за Россию тысячи его ровесников».
И, кажется, его собеседница уже переубеждена.
Но мне жаль Набокова. Упрек кажется мне несправедливым. (Деревянный, оловянный, стеклянный. Мы не деревянные. Мы бьемся, мы плавимся, мы боимся в огонь, мы готовы, мы готовимся отступать.)
Этот суп слишком густ для нас, нам бы пожиже.
«...Теннис, солнце, литература. На свете есть немало важных вещей».
Звучит, конечно, не очень. Как-то по-снобски. И это когда все вокруг рушится или гибнет. И все же...
Для одной телепрограммы читаю сейчас книгу Флориана Иллиеса «Любовь в эпоху ненависти». Там про жизнь богемной Европы в 30-е годы XX века, про время, которое скоро закончится и известно чем. И темная туча все ближе.
Молодые Сартр и Симона де Бовуар, не такой молодой Брехт, который, только женившись, едет встречать на вокзал любовницу со свадебным букетом (не пропадать же добру), зрелый Пикассо, рисующий на прощание свою жену так, что она, взглянув на рисунок, молча одевается и уходит; вполне себе еще молодой эмигрант Набоков…
И вдруг этот сноб Набоков пишет своей Вере:
«Должен сообщить тебе одну вещь... Может быть, эту вещь я уже тебе сообщал, но на всякий случай сообщаю еще раз. Кошенька, это очень важно, – пожалуйста, обрати внимание. Есть немало важных вещей в жизни, например теннис, солнце, литература, – но эта вещь просто несравнима со всем этим, — настолько она важнее, глубже, шире, божественнее. Эта вещь – впрочем, нет нужды в таком долгом предисловии; прямо скажу тебе, в чем дело. Вот: я люблю тебя».
Господи, как же хорошо.
Что осталось еще столько любви в этом мире, окруженном стрельбой и тоской, на другом берегу, в этом слишком густом для наших нервных желудков вселенском супе, с противной картошкой, которая так осложнила всю нашу жизнь и которую ни на какую репу уже не заменить.
Как хорошо, что хоть кому-то в этом смысле тут повезло. Ну пусть не нам, пусть Набокову, пусть будущему Набокову, пусть Наспинникову, Наживотникову и Наручникову. (Хотя скорей всего фамилия «Набоков» происходит от ныне не употребляемого прилагательного «набокий», что означает «кривобокий», «косой» и «кособокий» человек.)
Ну пусть кособокий, пусть кривобокий, пусть с плебейской розовой репой, но свою долю бессмертной смертной любви получил.

 Цивилизация
Цивилизация